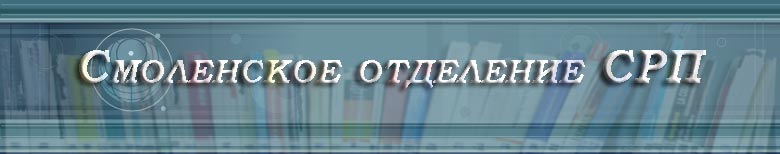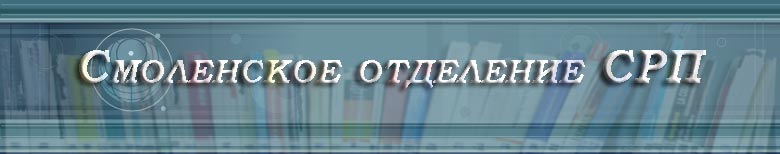|
Фольклорные реминисценции поэзии Веры Ивановойtc
"Фольклорные реминисценции поэзии Веры Ивановой"
Творческие искания Веры Анатольевны Ивановой (род. –
8.03.1935) как в области поэзии, так и прозы, отмечены
непрерывной работой над достижением в своих произведениях
глубины и психологической выразительности, точности и
ясности поэтического слова, истоки которого в различных
формах реминисценций, аллюзий, транскрипций, а нередко и в
форме прямого цитирования во многом восходят у нее к устной
народной поэзии.
Достижению глубины чувств и переживания поэтического
высказывания также способствует и выразительность,
афористичность живого разговорного языка, нередко с
вологодским и смоленским акцентами, органически впитанных
поэтессой в годы детства и юности, в период её становления:
«Я поморка крутого нрава, часто я на себя сержусь, то,
бывает, с собой не справлюсь, то в самой себе не разберусь»;
«Пускай никогда над Смоленском набат тревожный не слышится,
пускай только мирные грозы гремят над мирными крышами»
[1,100; 16].
Председатель Смоленского отделения Союза российских
писателей (с 1995 по 2004 гг.), Лауреат литературной премии
журнала «Студенческий меридиан» [7,100], активный участник
смоленского областного литературного объединения «Родник»,
возглавляемого поэтом Ю. В. Пашковым, руководитель детской
литературной студии (с 1994 г.), Вера Анатольевна,
получившая прекрасное филологическое образование в МГПИ им.
В. И. Ленина, является автором ряда книг, публикаций в
различных центральных журналах, привлекающих внимание
читателей искренностью, глубиной чувства, нескрываемой болью
за поистине трагическую участь народа в годины лихолетья:
«Когда в Отечестве пророков не хватает, вступает в силу
сумрачный закон – несытая чужих пророков стая слетается на
нас со всех сторон»; «Режут времени грани острые, режут душу
нам до крови»; «После драки мы, нет, не плакали, зарывали
свои топоры. До поры?» [2,69; 4,97; 5,55].
Поэтесса ищет ответы на вопросы, глубоко волнующие ее
современников, по-своему осмысляя в образно-художественной
форме социально-политические условия жизни россиян, вплетая
в поэтику стиха все многообразие форм транскрипций духовного
песнопения, пословиц, поговорок, афористических присказок и
присловий: «В черном теле держали душу, и она о добре
забыла»; «Добро и зло – две старые монеты, но первая дороже
во сто крат»; «Мы долго кроили, мы медленно шили, семь раз
отмеряли, один отрезали» [1,102; 2,81; 99].
Символические образы ее лирики органично включают в себя и
библейские мотивы, нашедшие отражение в различных
фольклорных жанрах: «России поля, отворенные небу, и
доброму солнцу, и теплым дождям, и русский наш дух, и
смолистый, и хлебный… Каким нам за это молиться богам?»; «С
маху разрушили то, что имели, создали то, чего нет. Господи,
Боже, того ли хотели? Дивись на нас, белый свет»; «Шептала
ночка темная: „Поплачь…“, а день: „Терпи…“» [1,21; 6,190;
192].
Наиболее же близки ей темы, мотивы, образы и поэтика
русского сказочного эпоса, несущего в себе сердечность,
доброту, отзывчивость сказителей к его героям,
оптимистическое восприятие окружающей действительности,
зовущего в необъятный мир фантазии и грез: «В просторном
доме по углам хранятся сказок клады»; «Сказки вечер начал
нам рассказывать, света поубавив на земле, о добре – огнями
желто-красными, а тенями черными – о зле»; «В добрых сказках
всех злодеев побеждал Иван-царевич и Иванушка-дурак»; «К нам
летят, легко махая крыльями добрых сказок добрые концы»;
«Утро вечера мудренее – учат добрые сказки нас» [1,7; 25;
43: 47; 135].
Вместе с тем, реалии жизни не обходят стороной поэтессу, и
сказка начинает звучать уже в иной, минорной лирической
манере; может даже возникнуть спор с мудрым сказочником –
Шарлем Перро: «На ярмарке жизни чудес убывает: здесь Золушку
Принц не всегда выбирает» [2,84].
Нередко обращение к прошлому обретает в ее лирических
исповеданиях своеобразное звучание – бережного, любовного
отношения к поэтическому Слову, глубочайшей веры в его
могущество, способного изменить окружающую действительность:
«Душа болит – звучит в нас голос предков, его ничто не может
заглушить»; «А все же есть волшебные слова, но сила
волшебства их такова, что мы ее до времени не знаем» [1,27;
106].
Об этом же и прозаические эссе поэтессы: «Пытаюсь <…>
разглядеть самое главное. Почему-то всплывают три
давно-давно запомнившиеся по сугубо грамматическому поводу
слова – „Благодаря; вопреки; согласно“…» [3,55].
Она вполне искренне убеждена, что «поэтам голос совести
слышней», и – «если голоса нет, песни шепотом можно петь,
нужно только – своим» [1,8; 18].
Мифологический образ мышления далеких предков россиян,
нередко обретающий форму своеобразных поэтических
транскрипций в богатейших, многообразных лексических
напластованиях разговорной речи наших современников, также
привлекает ее внимание: «Как истово язычества наследство –
кумиров сотворять в своей душе»; «Полонит нас, на город
хлынув, колдовская неделя сирени»; «Любимых женщин узнают по
их ликующим улыбкам и по колдуньям – тайным скрипкам, что в
душах их светло поют» [34; 64; 2,12].
Пантеистическое восприятие окружающей действительности в
художественной форме неразрывного единения человека и
растительного, животного мира, одушевления Космоса и Земли,
истоки которого – в фольклоре, придает стихам особую
значимость, проникновенность в мир «вечных тем», волнующих
поэтов и писателей всех поколений – жизни и смерти, перехода
из одного состояния в другое: «Я думаю, сосна – живая. И
тело золотое напрягая, стоит, янтарных слез не вытирая,
молчит, крутым ветрам едва внимая» [1,20].
Олицетворение явлений природы в ее поэзии также идет от
образно-художественной системы миропонимания россиян: «Не
притворяется природа, к нам расположена ее душа» [49].
Причинно-следственные связи возникновения катаклизмов
современного мироздания звучат в форме завуалированных,
уходящих в глубинный подтекст социальных морально-этических
явлений. И все это окрашено в тревожные, а порой и
нескрываемо трагические интонационные оттенки: «Потеряла ли
разум природа, на погибель себя круша?» [44].
С
такой же нескрываемой болью в сердце говорит поэтесса о
событиях века минувшего, когда «брали, забирали, убирали –
оборотнем в мире был Закон»; «Ненастье, несчастье, напасти –
стучат молоточки судьбы»; «В России мрак сменяет не рассвет,
а сумерки, подстегнутые тьмою» [28; 2,40; 6,192].
Горькой иронией проникнуты ее строки, включающие в себя
элементы поэтики тюремных песен: «Что вам воля? Да что в ней
скрыто? Там и ветер, и волны воют, а в тюрьме вы в тепле и
сыты, тут подлечат и успокоят» [2,83].
Уроженка Вологодского края, Вера Анатольевна и на Смоленщине
помнит о его «преданьях старины глубокой»: «Русский Север,
край наш былинный, был раздольем для русской души, предков
вел дорогами длинными и надежно учил дружить» [1,15].
Оттуда же, из детства, – истоки поэтики материнской народной
лирики: «Нянчит бабушка, как будто в колыбели, на балконе в
ящике цветы»; «Уходило спать трудяга-солнце, колыбельный
зазвучал мотив» [43; 58].
Поэтика детского фольклора порой обретает под пером поэтессы
неожиданное звучание – введение в образно-поэтическую
систему стиха элементов урбанизации придает ему окраску
городского «жестокого» романса, в основе которого –
трагическая коллизия жизненных ситуаций, разочарование и
неуверенность лирического героя в своих силах: «Ах, город,
отчего ты не поешь нам ласковых и колыбельных песен?!»
[103].
Устоявшиеся неразделимые словосочетания в форме народных
афористических присказок можно видеть в ряде строк
медитативной лирики: «Ищу я ветра в поле, а в небе –
журавля; в стогу ищу иголку»; «Жаль, что нет журавлика в
небе, а синица… вот, – в руке»; «У порога родимого дома… и
солома едома» [47; 98; 2,18].
Народные присказки могут обретать у нее достаточно
развернутые и стилистической конструкции
философско-эпические формы осмысления закономерностей
явлений окружающей действительности: «Что на роду написано,
исполнится – домой вернешься, обойдя весь свет» [96].
Она владеет приемами тавтологии как разговорной речи, так и
сказочного, былинного эпоса, лирической песни и детского
фольклора: «Я то грущу, то радуюсь, то плачу, но быть могу
собою в миг любой, сама собою, в миг любой – собой…»; «Знаю
улица спозаранку и мой дом на закате дня – не соврут, не
обидят, не ранят, все по чести со мной деля» [4,96; 5,53].
Дом для нее – живое существо, которое не только дает ей кров
над головой, но и согревает ее душу, привнося в нее
умиротворенность, чувство глубокой признательности и любви к
нему: «Степенно печь дородная встречала и охала, и ахала
устало, круглились бревен теплые бока, как дети прячась в
темных уголках пучки травы доверчиво дышали» [6,191].
Подобное же отношение – и к главному источнику жизни на
земле – Солнцу: «Только солнце умытое встанет, а на сердце –
новый мотив»; «Смеется солнце, закрываясь ладошкой пухлой
облака, гудит в высокий гулкий колокол весенних ветров
взбалмошная стая»; «Солнце, как ледышку, прячет за щеку
завтрашнего снега облако» [1,47; 50; 62].
Как к добрым, отзывчивым друзьям обращается она и к
различным временам года, находя в каждом из них свои особые,
неповторимые черты. Эти поэтические образы
индивидуализированы, каждый из них – «со своим характером»:
«Осень улыбки свои раздает грустно и искренне»;
«Опрометчивым всем апрелям судьи строгие – сентябри»; «Бабье
лето. Разве настоящее? Мимоходом, мельком, напоказ» [50,2;
83].
Образы природы становятся неотъемлемой составной ее
поэтического самовыражения и при изображении богатейшей
гаммы собственного внутреннего мира, в котором
верховенствующая роль, конечно же, принадлежит любви в самых
разнообразных ипостасях ее проявления: «Видела – есть крылья
у любви, крылья цвета солнца и рассвета» [74].
В
процессе осмысления различных аспектов непримиримости
противостояния «извечных антиподов» – добра и зла, Вера
Анатольевна отдает предпочтение народным представлениям об
этих явлениях, их библейскому толкованию: «А добрым людям
легче жить на свете» «Ты говори, не отводи глаза, пора душе
отпраздновать свободу!»; «Душа россиян миру вся на распашку,
на помощь отзывчива, в дружбе верна»; «К тебе березка ветки
склонит – ты душу русскую поймешь» [5; 98; 2,94; 6,190].
Задушевность, лирическая проникновенность интонации
исповедания перед читателем во многом связаны у нее со
звучащей в душе песней: «Хорошо с тобой мы говорили, на одну
настроены волну, говорили, словно бы сложили вместе песню
складную одну» [1,53].
Форму транскрипции, создающей новую версию популярного
произведения, избирает она для выражения полноты чувств
лирической героини, противопоставляя свое отношение к
ставшему народной песней романсу А. Варламова на стихи Н.
Цыганова – «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» – «Сшей
мне, мама, красный сарафан. Я пойду в нем среди бела дня.
Солнышко зайдет, я под баян запою, он взглянет на меня»
[2,92].
И
как бы развивая эту мысль, поэтесса приходит к весьма
неординарному выводу о том, что «счастливые стихов не пишут,
счастливые читают их»[1,154].
Она глубоко уверена в том, что «отзывчивой литературы
совесть перед Россией, как родник, чиста» [26].
Стихи Веры Анатольевны Ивановой привлекают внимание своей
искренностью, глубиной чувства, образно-поэтическим
отражением различных форм народного восприятия окружающей
действительности, получившего наиболее совершенное
воплощение в устном народном поэтическом творчестве.
Библиографический список:
1. Иванова В. А. Неделя сирени. – М., 1991.
2. Иванова В. А. Времена жизни. – Смоленск, 1993.
3. Иванова В. А. Переделкино. Свет и тени//В сбр.:
Под часами, №1. – Смоленск, 2002.
4. Иванова В. А. Избранное //В сбр.: Под часами, №2.
– Смоленск, 2003.
5. Иванова В. А. Избранное //В сбр.: Под часами, №3.
– Смоленск, 2004.
6. Годовые кольца. Книга прозы и поэзии/Сост. Ю. В.
Пашков. – Смоленск, 2004.
7. Меркин Г. С. Иванова В. А. //В кн.: Смоленская
область. Энциклопедия, т. I – Персоналии. – Смоленск, 2001.
|